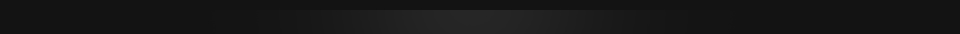ВОКАЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА | 16-05-2024 |

Это подтверждается Альбертом Швейцером. Рассуждая об aria en ritournelle в произведениях Баха, он говорит: "Бах. приняв с почти легкомысленным сознанием своей бесконечной мощи итальянские формы и схемы, задержал развитие немецкой музыки. Ведь уже тогда в духовной сфере она могла создать то, что позже осуществил Вагнер в области музыкального театра". Естественно, что, когда немцы стали освобождаться от необходимости следовать иностранному вкусу, они отпустили вожжи во всем, что касается их национальной склонности к инструментальной музыке.
Сегодня главный интерес сосредоточивается на оркестре, а не на голосе. Это положение полярно эстетической концепции времен Люлли, когда голос был самым важным инструментом для передачи глубокого чувства. "Ваш герой должен умереть от горя и скорби, - пишет Лесерф де ла Вьевиль, - он это заявляет, однако то, что он поет, этого вовсе не выражает и отнюдь не возбуждает сочувствия: его горе нисколько не задевает меня... Но аккомпанемент способен взорвать скалы... Забавное возмещение! Разве героем является оркестр?
Нет, певец. Так пусть же он растрогает меня, пусть нежное и выразительное пение изобразит мне его чувство, пусть он не перелагает задачу растрогать меня на оркестр, лишь случайно и как бы из милости сюда допущенный".
Дони ясно определил эту мысль, когда сказал, что оркестр должен отвечать требованиям поддержки голоса, но не должен настолько привлекать к себе внимание, чтобы отвлекать слушателя и мешать ему с полным вниманием следить за певцом.
Этот вопрос - источник разногласий, он дает нескончаемые поводы для раздоров среди любителей мелодии.
 | Смотрите также:  Французские влияния на клавирную музыку Баха Французские влияния на клавирную музыку Баха Элизабет Стивенс Элизабет Стивенс Наталия Маргарета Фронталлини Наталия Маргарета Фронталлини Стиль Стиль Оттавио Пальмиери Оттавио Пальмиери |






"У французов нет музыки, и быть ее у них не может, но, даже если они ее заимеют, это будет хуже всего для них" — такое торжественное заявление мы находим в "Письме о французской музыке" Руссо (1753).